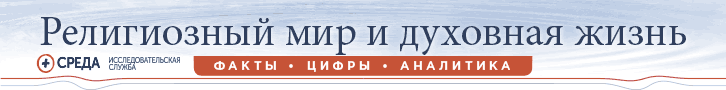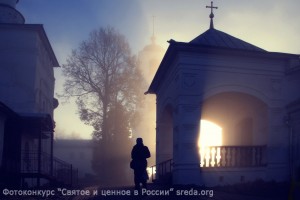КТО И ЗАЧЕМ АНАЛИЗИРУЕТ ЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ?
Дата публикации: 29.01.2016Поделюсь несколькими соображениями, возникшими при подготовке зимнего выпуска журнала “Лодка”.
Прежде всего, выражаю глубочайшую благодарность экспертам, поддержавшим наше начинание. Более пятидесяти человек, включая участников круглого стола, отозвались на нашу просьбу и потратили время, отвечая на вопросы о современном состоянии изучения религиозной и церковной жизни.
Некоторые приглашенные к разговору эксперты затруднились с ответом: «Это непростая тема, говорить о ней нужно долго…» Приносим извинения всем, кому оказался неудобен формат блиц-опроса. Он был вызван тем, что на страницах этого выпуска нам хотелось собрать много разных точек зрения. Надеемся, что поднятая тема не утонет за пределами ЛОДКИ, и все, у кого есть желание высказаться, получат эту возможность. Например, тут: http://vk.com/sreda_org Приглашаем.
Собранный спектр экспертных мнений выглядит энергично, активно, включает много противоречивых оценок. Перед читателем предстает своего рода головоломка (puzzle), из которой при желании может быть собрано несколько разных картин. Иными словами, это интерактивная картина, включающая в себя зрителя. Впрочем, это не удивительно, когда речь идет о церковной жизни, серьезное обращение к которой рано или поздно приводит к тому, что «зрителей нет».
Представляется, что ответ на вопрос «Кто и зачем изучает церковную жизнь?» требует определенной смелости, ибо в самой формулировке может быть при желании найден встроенный парадокс. Процесс изучения предполагает объективность, субъект-объектность, дистанцирование «наблюдающего» от «наблюдаемого». Но как мы знаем, вера и Церковь соединяют мир в полноте, которая дана нам днесь. Принадлежа Церкви Христовой, может ли кто-то смотреть на нее со стороны? Что же это за «сторона» такая.
Впрочем, не сгущаем ли мы краски. Разве отчуждение от изучаемого является непременным условием изучения? Этого, казалось бы, требует наука, или, может быть, этого требует то, что мы с Нового времени привыкли считать наукой, научены считать наукой? Множество выдающихся мыслителей не стояло перед выбором «той или иной» стороны. На протяжении многих веков наука и богословие служили общей цели.
Что такое наука: она разрезает или соединяет, убивает или животворит? Или она вообще не об этом? В предисловии к выпуску ЛОДКИ цитировался опрос прихожан, сказавших, что ложь лишает человека его православной веры. Может быть, наука – это научение о том, как не лгать. Опытный навык честности, законный и душеспасительный путь.
В окружающей жизни стремление к анализу и синтезу наполняется сердцебиением живого человека, согревается его пульсом (систола-диастола-пауза). Сердце видит мир глубже, чем глаза, сшивая его временем нашей жизни. Нет формальных противоречий там, где есть динамизм и синергийность. А те, что есть, свидетельствуют о жизни и движении. В этом смысле требование «методологического агностицизма» в современном религиоведении (см. Russell McCutcheon) рискует лишить права на существование сверх-живое изучаемое, приводя к феноменологической редукции трансцендентной реальности – к грешному человеку.
Но возможно и другое изучение, идущее «снизу вверх», телеологически возвращающее миру цельность, исцеляющее его. Таким образом, адекватно и полно изучать церковную жизнь может только сама церковная жизнь. Иначе, оторванное от нее изучение «со стороны» рискует оказаться изучением церковной смерти. Как сказал Карл Ранер (Karl Rahner), католический богослов ХХ века, «…социология убила церковь».
На-ука, из-учение неотделимы от вопрошания, внутреннего и направленного вовне. Внутри каждого из нас идет непрестанная духовная битва. От того, что происходит в сердце человека, зависит, будет ли пришедшее в ответ на его вопросы знание укреплять Церковь или расшатывать ее. Поэтому обращенное к другим вопрошание должно быть обусловлено особого рода воспитанностью, когнитивной и душевной культурой, смелостью к выходу за пределы собственного «я». «Спрашивать других святой Антоний считал столь спасительным делом, что даже сам, учитель всех, обращался с вопросом к ученику своему, преуспевшему, однако ж, и как тот сказал, так и поступал».[1]
Культура предполагает уважение. Культура мышления предполагает открытость к обратной связи. Изучение среды начинается с уважения к среде и продолжается в служении. Познание мира, неотчужденное от голоса совести, – это «теплая наука», добрая, необезличенная; знание в ней оказывается органическим и одушевленным. Но когда совесть выносится за рамки, от прежде живого целого остается самодостаточный проект понимания ради контроля и управления–это «холодная наука». Она не добрая и не злая, не живая и не мертвая. Как и всякий механизм, она «…находится по ту сторону от добра и зла».
В мире, взрастившем современное представление о науке, не слишком популярна установка «соединяй и служи», напротив, поощряется «разделяй и властвуй». Просвещенное дерево, уходящее корнями в схоластику, приносит холодные плоды. Просвещение не от того света. Видимые в этом свете факты докажут с научной убедительностью, что цена Церкви равна 30 серебряникам. Мир не может не защищаться от такого знания. Может, этим вызван культурный провал проекта Просвещения, приводящего к возрастающему одиночеству человека в уплотняющемся мире; потере христианской миссии, смещению этических ориентиров, демографическим проблемам.
Можно ли согреть холодную науку? «Наука без религии – небо без солнца. А наука, облеченная светом религии, это вдохновенная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира», – пишет святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в книге «Наука и религия». Ледяной бесконечный космос просвещенного разума осветит и согреет просвещенное сердце.
Представляется, что ответ на вопрос «Кто и зачем изучает церковную жизнь», тесно связан с судьбой Просвещения в России.
Исторически, первым Просвещением можно было бы считать православную катехизацию, которая по логике вещей должна была сопровождать крещение Руси и принятие христианской веры в X – XI вв. Однако, как мы знаем, многие подданные св. князя Владимира приняли христианство под действием его политической воли, не обязательно соотносящейся с их внутренней жизнью и личным выбором.
Вспоминается Константин Великий и принятие христианства Римской империей. Евсевий Кесарийский, богослов и придворный епископ, на тридцатилетие правления царя Константина произнес официальный панегирик: «..Нося образ небесной империи, имея взор, вперенные горе, <император> управляет жизнями смертных согласно первообразу, с силой, полученной от подражания единодержавию Божию»[2] Согласно тому же Евсевию, особая личная харизма, даруемая Богом, наделяет императора епископскими функциями.[3] Можно сказать, император оказывается последним женатым епископом в православном мире, представляющем собой каноническую территорию его христианского служения (Прп. Григорий Богослов: «Pax Romana создал не Август, а Христос»).
 В современной российской религиозной жизни очень важна политическая составляющая. Понимание и признание этого помогает прояснить современную ситуацию с интересом к церковной жизни, который отличается значительно бóльшим вниманием к внешним – социальным, поведенческим – компонентам православной церковности,ч ем к собственно церковным, духовно значимым вопросам, аксиологической (ценностной) динамике. Глядя на области практического интереса, наболее-менее востребованные направления исследований, можно заметить невысокое внимание к вопросам миссии. Это становится понятным в ситуации, когда популярность того или иного вероисповедания больше зависит от политической воли и имеющегося потока ресурсов, чем от общественного запроса. Безуспешность попыток внедрить системные алгоритмы оптимизации корпоративной церковной деятельности, несмотря на усилия, казалось бы, прикладываемые в этом направлении, тоже становится более понятной, если иметь в виду решающую роль наличия или отсутствия внешнего административного ресурса и сопровождающие его прохождение сверху вниз транзакционные издержки.
В современной российской религиозной жизни очень важна политическая составляющая. Понимание и признание этого помогает прояснить современную ситуацию с интересом к церковной жизни, который отличается значительно бóльшим вниманием к внешним – социальным, поведенческим – компонентам православной церковности,ч ем к собственно церковным, духовно значимым вопросам, аксиологической (ценностной) динамике. Глядя на области практического интереса, наболее-менее востребованные направления исследований, можно заметить невысокое внимание к вопросам миссии. Это становится понятным в ситуации, когда популярность того или иного вероисповедания больше зависит от политической воли и имеющегося потока ресурсов, чем от общественного запроса. Безуспешность попыток внедрить системные алгоритмы оптимизации корпоративной церковной деятельности, несмотря на усилия, казалось бы, прикладываемые в этом направлении, тоже становится более понятной, если иметь в виду решающую роль наличия или отсутствия внешнего административного ресурса и сопровождающие его прохождение сверху вниз транзакционные издержки.
Тем временем, такой взгляд на анализ церковной жизни для самих православных представляется не очень интересным. А что интересно? Процитирую мнение, высказанное в личной переписке: «…Сказанное Вами не отменяет необходимости домоустроительства, а значит, и посильного понимания и описания того, что в доме происходит. Думаю, это не “ресурсная оптимизация”. Это, скорее, по части домашнего хозяйства. Нехорошо, когда дома у тебя разорение».
Второе Просвещение в России приходится на XVIII-XIXвека (по мнению некоторых экспертов, этот процесс также включает и век XVII, и даже XX). На этот раз «это было долго»,а в роли «света» выступало знание, причем научное знание, светившее из Западной Европы. Со всей вышеописанной спецификой. Судьба этого Просвещения в России была непростой.
Во Владимире, в замечательном музее, располагающемся в старой водонапорной башне и рассказывающем о дореволюционной жизни города, посетители могут ознакомиться с цитатой из «Ежегодника Владимирского губстаткомитета» за 1880 год: «Город, хотя и просвЪщенъ, но мало освещЪн. Владимiрскiе фонари скорЪеслужатъ для усиленiя мрака, чтобы болЪеоттЪнить окружающую тьму». Этот вывод был сделан после ночного обхода, при котором выяснилось, что в городе не работает ни один фонарь.
Впрочем, свет все-таки появился, и довольно скоро. Он шел от «лампочек Ильича».
Естественный «агент Просвещения» в России–интеллигенция. Похоже, что до сих пор не решенным остается вопрос, существует ли российская интеллигенция как самостоятельный феномен или это «пустое понятие», «измененная форма», социальное содержание которой зависит от специфики модернизационного процесса, так или иначе затронувшего к сегодняшнему дню все страны и культуры. В зависимости от ответа на этот вопрос, корни интеллигенции ищут и находят в разных почвах, нов целом разночинская среда позапрошлого века выглядит как подходящий meltingpot («плавильный котел»).
Если существует проблема, которая не решается системно, ее можно попытаться решить с переходом на личности. В 2015 году вышла книга американской исследовательницы Лори Манчестер «Поповичи в миру»,[4] в которой, на основании изучения биографических материалов, собранных из публичных и частных архивов и описывающих жизнь нескольких сотен поповичей в конце XIX–начале XX века, выдвинуто несколько предположений. Исследовательница пишет о сосуществовании в дореволюционной России двух культур, светской и церковной, обе из которых были представлены в разночинской среде. Причем первая из них была принесена детьми обедневших дворян, а вторая – потомками белого духовенства, добровольно покидающими свое сословие. Причины их ухода предлагается видеть не в конфликте «отцов и детей» (судя по архивным документам, поповичи всю жизнь сохраняли уважение к своим отцам и не отказывались от привитых в семье традиционных ценностей) и не в общественно-политических процессах того времени, а скорее, в бурсе и периодически обостряющемся противостоянии между белым (приходским) и черным духовенством. К 1917 году поповичи составляли только 1% населения, но в духовном плане были очень влиятельной и, возможно, лидирующей группой для интеллигенции своего времени. Их отчасти вынужденный поиск нового места в социуме повлиял на специфику короткого «русского модерна», завершившегося культурной и политической революцией. Она и поставила исторический диагноз обеим культурам – и церковной, и светской.
Разумеется, это всего лишь одна из точек зрения на сложные и по-прежнему недостаточно изученные процессы, проходившие в России в начале прошлого века. Но эта точка зрения представляется по-своему заслуживающей внимания, глядя на то, как сейчас, в XXI веке, подрастают новые поповичи. Их с каждым годом все больше, они ходят в детские сады, школы, институты, открывают аккаунты в соцсетях. В рядах российской интеллигенции ожидается пополнение.
Один из экспертов на круглом столе, проведенном при подготовке выпуска, сказал: «…если существует тотальное недоверие, откуда взяться доверию? <…> Мне видится один выход – самокритика, прежде всего, со стороны церковных интеллектуалов». С этой точкой зрения, как представляется, невозможно не согласиться. Но кто такие церковные интеллектуалы, входят ли они в число российских интеллигентов или нет?
Принято считать, что в Западной Европе работает «теория секуляризации» (по данным European Value Survey, количество лет, проведенных в образовательных учреждениях, обратно коррелирует с религиозностью человека). В России такой закономерности нет. Воцерковленные люди с высшим образованием – типичная российская практика. Это показывают самые разные исследования, в том числе проведенные службой «Среда».
 В современном публичном дискурсе сильна тенденция обвинять интеллигенцию во всех тяжких грехах нашей новейшей истории. Выглядит модным считать, что «больной человек русского мира» – интеллигент, цитировать «Вехи» и сетовать о гнилых корнях Просвещения в России. Повторять слова Л.Н.Гумилева, прозвучавшие, когда его назвали интеллигентом: «Помилуйте, батенька, какой же я интеллигент? У меня, слава Богу, профессия есть».О социальном масштабе современной российской интеллигенции судить сложно, ибо она невидима, заперта в ускользающих понятиях, как в Троянском коне. А тем временем на страницах современных российских СМИ звучит, что «интеллигент по определению не может верить в Бога».
В современном публичном дискурсе сильна тенденция обвинять интеллигенцию во всех тяжких грехах нашей новейшей истории. Выглядит модным считать, что «больной человек русского мира» – интеллигент, цитировать «Вехи» и сетовать о гнилых корнях Просвещения в России. Повторять слова Л.Н.Гумилева, прозвучавшие, когда его назвали интеллигентом: «Помилуйте, батенька, какой же я интеллигент? У меня, слава Богу, профессия есть».О социальном масштабе современной российской интеллигенции судить сложно, ибо она невидима, заперта в ускользающих понятиях, как в Троянском коне. А тем временем на страницах современных российских СМИ звучит, что «интеллигент по определению не может верить в Бога».
С этой точкой зрения по мере сил боролась Юлия Синелина. Феномен российский православной интеллигенции был в фокусе ее научного внимания. Конфликт секулярной элиты и части верующего общества, возможным результатом которого может стать очередной цикл секуляризации, для Юлии Юрьевны представлялся возможным, но не единственным сценарием. В своих докладах она развенчивала «миф о либеральной интеллигенции», не слишком многочисленной, но медиа-активной, говорила о большом потенциале консервативного крыла. Сегодня православная консервативная российская интеллигенция представляется социальной силой, еще не нашедшей ни своих режиссеров на политической сцене, ни своих лидеров в духовной борьбе. Тем временем, ее внимания с очевидностью ждут многие вопросы современной церковной жизни.
Юля трагически скончалась два с половиной года назад, в возрасте 41 года, на взлете научной и академической карьеры. Осталась семья, трое детей. Осенью этого года на ее могиле установили памятник и отслужили панихиду. После поминовения, обращаясь к родным и близким, священник рассказал притчу о том, как двум людям, верующему и неверующему, задали вопрос: что остается от человека после смерти? Неверующий сказал: холмик. Верующий сказал: красота.
Юлия Синелина была и остается красивой. Она щедро делилась своими знаниями и своей верой, жила смелой, и любящей жизнью. Жила в Церкви. Она выступила инициатором нескольких научных проектов, которые представлены на страницах зимнего выпуска «Лодки» (это конференция в Белгороде, продолжающаяся силами Сергея Дмитриевича Лебедева; это семинар по социологии религии в МГУ, который теперь проводит Сергей Викторович Трофимов). Мы храним память о ней и ее трудах.
Современная верующая Россия настороженно относится к науке. Ученые сталкиваются с закрытостью религиозных организаций. Интеллигентов опасаются все, в том числе сами интеллигенты. В этом мире всеобщего недоверия и подозрительности возможен ли «умный труд», который изучает, не только анализируя, но и соединяя? Возможно ли созидательное и доброе знание, которое сохранится и тогда, когда мы уйдем. Возможно ли осознанное домостроительное усилие, останавливающее разруху. Говоря словами притчи, прозвучавшей на могиле Юли Синелиной, возможна ли в России интеллигенция, после которой останется красота?
[1] Преподобный Антоний Великий, Совершенство духовной жизни, «Добротолюбие».
[2] «Слово царю Константину по случаю тридцатилетия его царствования», – соч.ЕвсевияПамфила, пер. с греч. при Санкт-Петербургской Духовной Академии. Изд. 2-е. Т.II, СПб., 1850. – стр.349.
[3] Цит. по: Прот. И.Мейендорф; «Единство империи и разделения христиан: Церковь в 450-680 гг», – пер. с англ. -ПСТГУ, Москва, 2012.- стр. 50.
[4] Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России / Лори Манчестер; пер. с англ. А.Ю. Полунов. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 448 с.